В музей
с ван Гогом
с ван Гогом
фрагменты

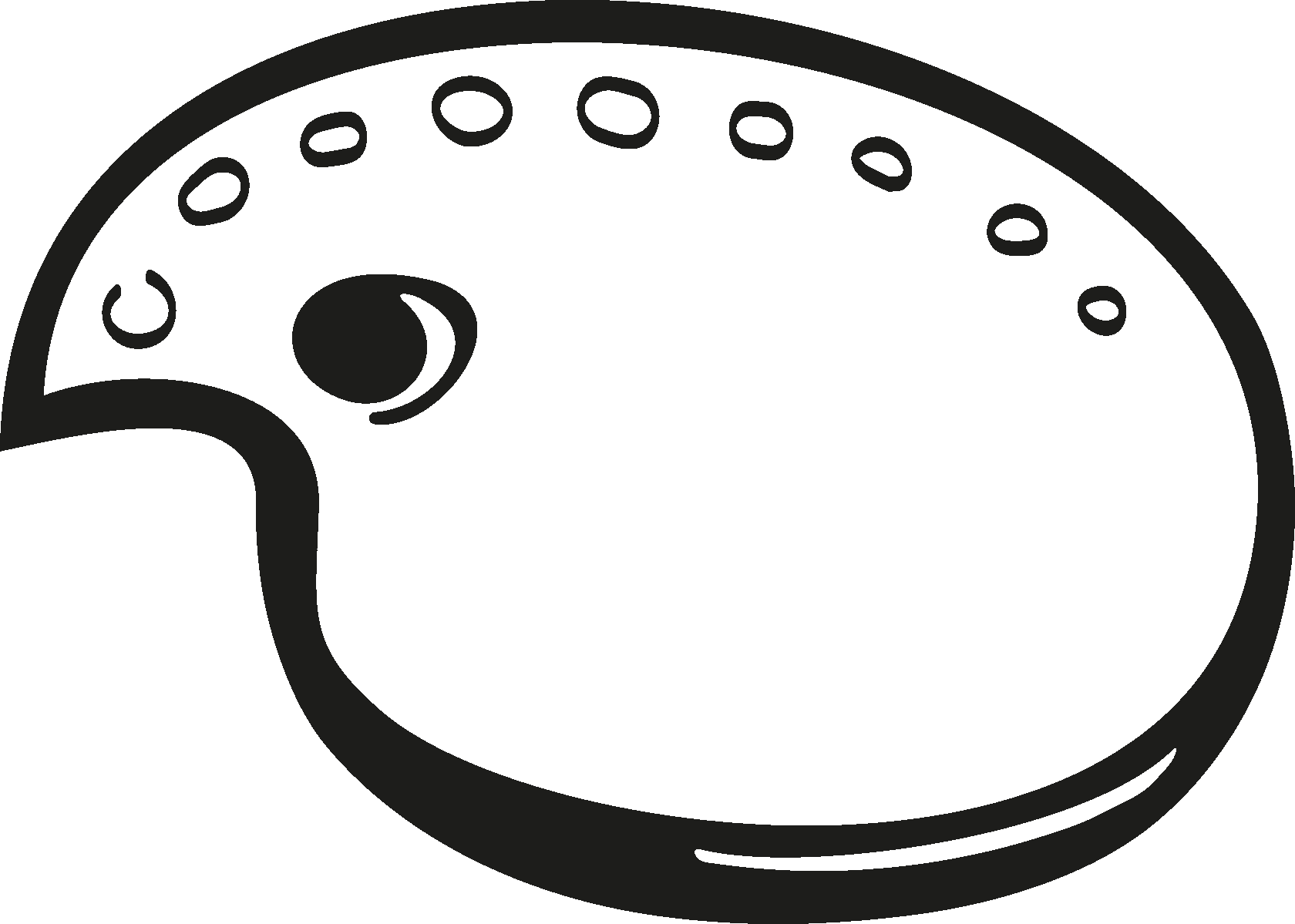
В октябре 1885 года Винсент Ван Гог совершил поездку в Амстердам, которую «все откладывал и откладывал». Оказавшись в столице «страны картин», художник отправился в музеи.
Своими впечатлениями, тонкими наблюдениями и размышлениями о том, чему могут научить «старые голландские мастера», художник поделился в письмах к брату Тео.
Своими впечатлениями, тонкими наблюдениями и размышлениями о том, чему могут научить «старые голландские мастера», художник поделился в письмах к брату Тео.
Ньюэнен, ориентировочно суббота, 10 октября 1885
«На этой неделе побывал в Амстердаме, но успел посмотреть только музеи. Я провел там три дня: уехал туда во вторник, а вернулся домой в четверг. Результат таков: я очень рад, что поехал coûte que coûte; я твердо решил, что отныне не буду надолго лишать себя возможности смотреть картины.
Я все откладывал и откладывал эту поездку, как и многое другое, по причине связанных с нею расходов. Теперь я больше не считаю такую экономию разумной и искренне радуюсь этому. Для моей работы чрезвычайно необходимо смотреть старые картины: глядя на них, я совсем иначе, чем раньше, уясняю себе вопросы техники; кроме того, посещение музеев почти целиком удовлетворяет мою потребность в развлечениях.
«На этой неделе побывал в Амстердаме, но успел посмотреть только музеи. Я провел там три дня: уехал туда во вторник, а вернулся домой в четверг. Результат таков: я очень рад, что поехал coûte que coûte; я твердо решил, что отныне не буду надолго лишать себя возможности смотреть картины.
Я все откладывал и откладывал эту поездку, как и многое другое, по причине связанных с нею расходов. Теперь я больше не считаю такую экономию разумной и искренне радуюсь этому. Для моей работы чрезвычайно необходимо смотреть старые картины: глядя на них, я совсем иначе, чем раньше, уясняю себе вопросы техники; кроме того, посещение музеев почти целиком удовлетворяет мою потребность в развлечениях.
Невзирая ни на что (франц.)
Не знаю, помнишь ли ты, что слева от «Ночного дозора» и, следовательно, симметрично «Синдикам цеха суконщиков» висит картина (ранее неизвестная мне) Франса Хальса и П. Кодде — человек двадцать офицеров в полный рост.

Франс Халс (в соавторстве с Питером Кодде).Отряд капитана Рейнера Реаля (Скудная компания). Холст, масло. 1637. Рейксмузеум, Амстердам
Рассмотрел ли ты ее как следует? Одна эта картина уже стоит поездки в Амстердам, особенно для колориста. В ней есть одна фигура — знаменосец в глубине левого угла, прямо у рамы, — которая с головы до пят сделана в сером, вернее, в жемчужно-сером цвете, особого нейтрального тона, вероятно, достигнутого с помощью оранжевого и синего, смешанных таким образом, что они нейтрализуют друг друга. Варьируя этот основной тон, делая его то чуть темнее, то чуть светлее, художник достигает того, что вся фигура кажется написанной одним и тем же серым цветом. Однако кожаные башмаки сделаны из другого материала, чем чулки, последние выглядят иначе, чем складки штанов, а те, в свою очередь, отличаются от куртки; в каждой детали костюма чувствуется особый материал, все они очень сильно отличаются друг от друга по расцветке и все-таки принадлежат к одной семье серого. Но это еще не все!
В этот серый художник вводит синий, оранжевый и немножко белого: шелковые банты на куртке — божественного светло-серого цвета, перевязь и флаг — оранжевые, воротник — белый.
В этот серый художник вводит синий, оранжевый и немножко белого: шелковые банты на куртке — божественного светло-серого цвета, перевязь и флаг — оранжевые, воротник — белый.
Оранжевый, белый, синий — национальные цвета того времени; оранжевый и синий, противопоставленные друг другу, — великолепное сочетание на фоне серого, составленного именно с помощью смешения двух этих цветов, которые (имея в виду цвет) я назвал бы противоположными электрическими полюсами; к тому же эти цвета противопоставлены так искусно, что они взаимно усиливают друг друга на сером и белом.
Дальше в этой картине мы снова находим противопоставление оранжевого синему, затем великолепнейшего черного великолепнейшим белым; головы — их около двадцати — дышат жизнью и отвагой. А техника! А цвет! А какая выправка у всех этих людей! А как сделаны фигуры в целом!
Но этот оранжево-бело-синий парень в левом углу!.. Я редко встречал такую божественно прекрасную фигуру. Это нечто единственное в своем роде.
Делакруа пришел бы от нее в восторг, ну просто в бесконечный восторг. Я буквально прирос к месту.
Поясной портрет человека в желтом, тускло-лимонном, чье фиолетоватое лицо благодаря противопоставлению тонов выглядит великолепной смелой бронзой, тебе, несомненно, тоже знаком. <...>
Дальше в этой картине мы снова находим противопоставление оранжевого синему, затем великолепнейшего черного великолепнейшим белым; головы — их около двадцати — дышат жизнью и отвагой. А техника! А цвет! А какая выправка у всех этих людей! А как сделаны фигуры в целом!
Но этот оранжево-бело-синий парень в левом углу!.. Я редко встречал такую божественно прекрасную фигуру. Это нечто единственное в своем роде.
Делакруа пришел бы от нее в восторг, ну просто в бесконечный восторг. Я буквально прирос к месту.
Поясной портрет человека в желтом, тускло-лимонном, чье фиолетоватое лицо благодаря противопоставлению тонов выглядит великолепной смелой бронзой, тебе, несомненно, тоже знаком. <...>
О картинах Франса Хальса можно сказать, что он всегда остается на земле: Рембрандт же исполнен столь глубокой тайны, возвещает нам о таких вещах, для выражения которых нет слов ни в одном языке.
Рембрандта совершенно справедливо называют волшебником — это нелегкое призвание. <...>
Рембрандта совершенно справедливо называют волшебником — это нелегкое призвание. <...>
В Амстердаме я видел две картины Израэльса — «Рыбака из Зандворта» и одну из самых последних его работ: старуха, осевшая, как мешок с тряпьем, у кровати, на которой лежит тело ее мужа.

Йосеф Исраэлс. Одна на всем белом свете. Холст, масло. 1878. Рейксмузеум, Амстердам
Обе картины я считаю шедеврами. Пусть люди в фарисейских, пустых, лицемерных выражениях болтают о технике, сколько им влезет; истинным художником всегда руководит та совесть, которая называется чувством. Его душа, стремления, мозг не подчиняются кисти, напротив, его кисть подчиняется мозгу. Кроме того, истинный художник не боится холста, а холст боится истинного художника.
<…> Письмо получается очень длинным. Но хотя ты, пожалуй, не поверишь тому, что я говорю о красках, и сочтешь меня пессимистом или чем-нибудь еще похуже, когда я утверждаю, что серый цвет, который считается сейчас изысканным, — весьма уродлив, или не одобряю гладкую выписанность лиц, рук и глаз, поскольку все великие мастера работали совершенно иначе, не исключено все-таки, что, сам занимаясь изучением искусства, — я рад, что ты вновь углубился в эти штудии, — ты мало-помалу изменишь свои взгляды. <…>
<…> Письмо получается очень длинным. Но хотя ты, пожалуй, не поверишь тому, что я говорю о красках, и сочтешь меня пессимистом или чем-нибудь еще похуже, когда я утверждаю, что серый цвет, который считается сейчас изысканным, — весьма уродлив, или не одобряю гладкую выписанность лиц, рук и глаз, поскольку все великие мастера работали совершенно иначе, не исключено все-таки, что, сам занимаясь изучением искусства, — я рад, что ты вновь углубился в эти штудии, — ты мало-помалу изменишь свои взгляды. <…>
Нюэнен, ориентировочно вторник,
13 октября 1885
<...>
Когда я снова смотрел старые голландские картины, меня особенно поразило то, что большинство их было написано быстро, что такие великие мастера, как Франс Хальс, Рембрандт, Рейсдаль и многие другие, по возможности делали все с первого раза и старались поменьше возвращаться к готовой вещи для поправок.
И заметь вот еще что: если вещь была хороша, они так ее и оставляли. Я особенно восхищаюсь руками у Рембрандта и у Хальса, руками, которые живут, хотя они и не закончены в том смысле, в каком это требуется в наши дни. Пример — некоторые руки в «Синдиках» и «Еврейской невесте», а также у Франса Хальса.
13 октября 1885
<...>
Когда я снова смотрел старые голландские картины, меня особенно поразило то, что большинство их было написано быстро, что такие великие мастера, как Франс Хальс, Рембрандт, Рейсдаль и многие другие, по возможности делали все с первого раза и старались поменьше возвращаться к готовой вещи для поправок.
И заметь вот еще что: если вещь была хороша, они так ее и оставляли. Я особенно восхищаюсь руками у Рембрандта и у Хальса, руками, которые живут, хотя они и не закончены в том смысле, в каком это требуется в наши дни. Пример — некоторые руки в «Синдиках» и «Еврейской невесте», а также у Франса Хальса.

Франс Халс. Святой Иоанн Богослов.
Холст, масло. Ок. 1625−1628. Музей Гетти, Лос-Анджелес
Головы, глаза, носы, рты тоже сделаны с первого мазка, без каких-либо поправок. Унгер и Бракмон отлично передали это в своих гравюрах, сделанных так, что по ним можно судить о манере живописи.
Как необходимо, Тео, смотреть в наши дни старые голландские картины! Французских художников: Коро, Милле и пр. — тоже. Без остальных можно легко обойтись: они сильнее, чем можно предположить, сбивают кое-кого с правильного пути. Главное — писать с ходу, писать столько, сколько можно написать с ходу. Какое наслаждение видеть вот такого Франса Хальса, и как это полотно отличается от тех картин, — а их великое множество, — где все тщательно сглажено на один и тот же манер. <…> По-моему, лучше соскоблить неудачное место ножом и начать все сначала, чем делать слишком много поправок.
<…>
Должен еще раз вернуться к того рода современным картинам, которых становится все больше и больше. Лет десять-пятнадцать тому назад начались разговоры о «высветлении», о свете. В принципе вопрос был поставлен правильно: благодаря такой системе написаны бесспорно мастерские вещи. Но когда она все больше и больше вырождается и влечет за собой перепроизводство таких картин, где на всем холсте, во всех четырех углах, царят локальный цвет и одинаковый свет — его, кажется, именуют «дневным тоном» — разве это хорошо? Думаю, что нет.
<…>
Великий урок, который дают нам старые голландские мастера, заключается, на мой взгляд, в следующем: рисунок и цвет должны рассматриваться как единое целое. Этому же учит и Бракмон. Тем не менее в наши дни многие художники не соблюдают этого правила. Они рисуют всем, чем угодно, за исключением здорового цвета.
Как необходимо, Тео, смотреть в наши дни старые голландские картины! Французских художников: Коро, Милле и пр. — тоже. Без остальных можно легко обойтись: они сильнее, чем можно предположить, сбивают кое-кого с правильного пути. Главное — писать с ходу, писать столько, сколько можно написать с ходу. Какое наслаждение видеть вот такого Франса Хальса, и как это полотно отличается от тех картин, — а их великое множество, — где все тщательно сглажено на один и тот же манер. <…> По-моему, лучше соскоблить неудачное место ножом и начать все сначала, чем делать слишком много поправок.
<…>
Должен еще раз вернуться к того рода современным картинам, которых становится все больше и больше. Лет десять-пятнадцать тому назад начались разговоры о «высветлении», о свете. В принципе вопрос был поставлен правильно: благодаря такой системе написаны бесспорно мастерские вещи. Но когда она все больше и больше вырождается и влечет за собой перепроизводство таких картин, где на всем холсте, во всех четырех углах, царят локальный цвет и одинаковый свет — его, кажется, именуют «дневным тоном» — разве это хорошо? Думаю, что нет.
<…>
Великий урок, который дают нам старые голландские мастера, заключается, на мой взгляд, в следующем: рисунок и цвет должны рассматриваться как единое целое. Этому же учит и Бракмон. Тем не менее в наши дни многие художники не соблюдают этого правила. Они рисуют всем, чем угодно, за исключением здорового цвета.
Нюэнен, ориентировочно вторник, 20 октября 1885
<...>
Знаешь, телесные краски у Франса Хальса тоже земляные, если употреблять это слово в определенном, по крайней мере часто встречающемся значении. Иногда — осмелюсь даже сказать, всегда — с этим обстоятельством у Хальса как-то связан контраст между тоном костюма и тоном лица.
Красный и зеленый — цвета контрастные. У «Певца» (коллекция Дюппера) в цвете тела есть тона кармина, в черных рукавах — зеленые тона, а в нарукавных лентах — красный другого тона, нежели кармин. У оранжево-бело-синего парня, о котором я писал тебе, сравнительно нейтральный цвет лица — землистый розовый, кажущийся фиолетовым благодаря контрасту с кожаным костюмом франсхальсовского желтого цвета. В лице у желтого, тускло-лимонного парня совершенно явственно виден тускло-фиолетовый. Так вот, чем темнее костюм, тем иногда светлее лицо, и это не случайно: портрет художника и портрет его жены в саду содержат, по крайней мере, два черно-фиолетовых (сине-фиолетовый и красно-фиолетовый) и простой черный (желто-черный?); повторяю: красновато-фиолетовый и сине-фиолетовый, черный и черный — все три цвета самые темные, и вот лица очень светлые, необычайно светлые, даже для Хальса.
<...>
Знаешь, телесные краски у Франса Хальса тоже земляные, если употреблять это слово в определенном, по крайней мере часто встречающемся значении. Иногда — осмелюсь даже сказать, всегда — с этим обстоятельством у Хальса как-то связан контраст между тоном костюма и тоном лица.
Красный и зеленый — цвета контрастные. У «Певца» (коллекция Дюппера) в цвете тела есть тона кармина, в черных рукавах — зеленые тона, а в нарукавных лентах — красный другого тона, нежели кармин. У оранжево-бело-синего парня, о котором я писал тебе, сравнительно нейтральный цвет лица — землистый розовый, кажущийся фиолетовым благодаря контрасту с кожаным костюмом франсхальсовского желтого цвета. В лице у желтого, тускло-лимонного парня совершенно явственно виден тускло-фиолетовый. Так вот, чем темнее костюм, тем иногда светлее лицо, и это не случайно: портрет художника и портрет его жены в саду содержат, по крайней мере, два черно-фиолетовых (сине-фиолетовый и красно-фиолетовый) и простой черный (желто-черный?); повторяю: красновато-фиолетовый и сине-фиолетовый, черный и черный — все три цвета самые темные, и вот лица очень светлые, необычайно светлые, даже для Хальса.

Франс Халс. Портрет супружеской пары (предположительно Исаак Абрахамс и его жена Беатрикс ван дер Ваан). Холст, масло. 1622. Рейксмузеум, Амстердам
Словом, Франс Хальс — колорист из колористов, колорист ранга Веронезе, Рубенса, Делакруа, Веласкеса. О Милле же, Рембрандте и, скажем, Израэльсе справедливо говорится, что их сила скорее в гармонии, чем в колорите.
А теперь скажи: можно или нельзя употреблять черный и белый, не запретный ли они плод?
Думаю, что нет: у Франса Хальса есть не меньше двадцати семи различных оттенков черного. Что касается белого, то ты и сам знаешь, какие потрясающие картины делают белымпо белому некоторые современные колористы. Что вообще означает слово нельзя?
Делакруа называл белый и черный спокойными цветами и соответственно употреблял их. Не следует питать предубеждение против них, потому что употреблять можно все тона — само собой разумеется, к месту и в гармонии с остальными. <...>
А теперь скажи: можно или нельзя употреблять черный и белый, не запретный ли они плод?
Думаю, что нет: у Франса Хальса есть не меньше двадцати семи различных оттенков черного. Что касается белого, то ты и сам знаешь, какие потрясающие картины делают белымпо белому некоторые современные колористы. Что вообще означает слово нельзя?
Делакруа называл белый и черный спокойными цветами и соответственно употреблял их. Не следует питать предубеждение против них, потому что употреблять можно все тона — само собой разумеется, к месту и в гармонии с остальными. <...>


